Об авторе. Нашим читателям хорошо знакомо имя Виктории Сорокиной. Не раз за её авторством на страницах газеты выходили публикации о земляках, которые она готовила во время прохождения практики в «Куртамышской ниве». Сейчас Виктория делает успехи в литературном творчестве. Как мы уже рассказывали, летом она побывала в Чите на Мастерской Захара Прилепина, в декабре – в Химках на литературном форуме. Совсем недавно вышел в свет литературный сборник с работами участников Мастерской Захара Прилепина и творческими впечатлениями о Забайкалье. Рассказ Виктории Сорокиной «Кручина» переносит нас в тот далёкий край, в сопки и быт бурятов.
Река Кручина была весела. Омывала низкие берега, несла шумный поток по каменистому дну среди пузатых сопок. На поворотах и перекатах вода выписывала пенную круговерть.
О реках всё сказано. Их нужно видеть, слышать и чувствовать. А ещё пробовать на вкус.
Кручина пресная, с привкусом металла, словно бы в воде закаляли сталь. Опустишь в неё руку, на ладонь осыпается белый песок. Кварц – верный спутник золота. А золото притягивает лихого и неспокойного душой человека.
Я нашёл реку среди поросших сосняком сопок и кинулся к ней. Кручина, нетронутая рукой человека, волновалась и ждала, как ждут девушки, своей судьбы. Я был холост. Кручина – невеста.
Склонившись над волнами, я мыл в лотке песок, щурил глаза, до рези всматривался в светлую под потоком воды крошку, искал бойкий блеск. Старателем я был страстным и везучим. Про таких говорят: «С нечистым водится». Но всё же удачу мою сглазили, за месяц пути в ладони ни разу не сверкнула искра.
На берегу Кручины сидел Мишука, коренастый смуглый парень лет двадцати. Я знал, что парня зовут Михаилом, но к его насупленному виду и молчаливости больше подходило растянутое Ми-шу-ка.
Разжигая костёр, он поглядывал на меня, отгонял паутов. Я знал, что ему хотелось есть. Голодный спазм бил под лёгкие, и Мишука, чтобы хоть как-то заглушить боль, жевал стебель перезрелой травы. Мой азарт в погоне за чем-то несбыточным ему не нравился, но он стойко терпел.
Наконец Мишука увидел меня, идущего от реки к костру. Я шёл на густой дым и громко бил ладонями по лицу, давя налившихся, как смородина, комаров и размазывая по запыленной коже кровь.
Сегодня я возвращался по-особому, ступал твёрдо, на лице расплывалась широкая улыбка, обнажая крепкие зубы с мелкой щербинкой.
- Ну, Мишука, живём, - я рассёк ребром ладони горячий воздух.
Мишука приободрился, пошевелил широкими плечами и стал тороп-ливо собирать нехитрый «стол», радуясь, что в этот раз я вернулся в добром расположении и теперь можно набить пустой желудок.
- Блестит, понимаешь, блестит, - быстро говорил я, протянув к Мишуке руку. Мишука подался вперёд, заглянул в мою грубую ладонь, где на смуглой с мозолями коже слабо блестели песчинки.
- Не зря, Мишука, чует мое сердце, - я крепко сжал кулак, скрадывая блеск, ударил себя в грудь.
Мишука отрешённо посмотрел в сторону реки, словно что-то припоминая. Но совсем скоро встрепенулся и суетливо принялся крошить крупными ломтями картошку.
Я снова пошагал к реке, где долго бродил по берегу, ногами разгребал мелкое крошево камня, наклонялся, брал в руки песок, всматривался в него. Теперь я знал, что Кручина моя, осталось лишь сломить её девичий нрав, обхватить гибкий водный стан и взять то, чего так долго искал.
Скоро еда была готова. Я сидел напротив Мишуки, улыбался.
- Завтра шурф будем бить, - заключил я, и улыбка слетела с моего лица, отчего губы замерли в неподвижной линии. Мишука слушал и быстро жевал, от этого шевелились его большие уши с отвисшими мочками.
Ночь была беспокойной. Я лежал с открытыми глазами, от дымокура тянулся сизый едкий шлейф, рядом сопел Мишука.
Я унимал быстрое сердце, а сам торопил ночь, чтобы рано утром приняться за работу. Вспомнил прошлую жизнь и удачные походы, как работал старателем на далёком Урале у промышленника Яковлева, как однажды, решив попытать удачу, сдал намытое золото перекупщику Цыганку. После люди Яковлева ломали мне ребра, хлестали по спине и лицу, а потом мужики-старатели отливали свинцовое моё, в багровых потёках тело холодной водой. Я разлеплял ссохшиеся от крови веки и губы, силился выдавить слова, но из груди рвалось булькающее: "Кхм".
От воспоминаний заломило спину, заныли жилы.
Платы за золото от Цыганка я не получил. Расчёт мой был иной - в сибирских далях. После каторги я отправился к подножиям голубых сопок, где, по слухам, тянулись золотоносные жилы.
Здесь я и встретил Мишуку. Долго присматривался к нелюдимому парню и решил взять его с собой. Мишука процедил "но", что означало на его языке безоговорочное согласие, и пошёл за мной.
В пути мы останавливались на быстрых реках и извилистых ручьях. Я надолго оставлял Мишуку в одиночестве, опускал в воду лоток, пальцами перетирал сырой песок, забирался на сопки, бил скалистую породу киркой, разносил по округе каменный звон. Мишука, погружённый в свои и одному ему известные думы, покорно брёл следом, тащил на спине кладь, варил быструю еду, ловил рыбу и стрелял дичь, прислушивался к особым звучаниям природы, угадывал, где и когда какой зверь проворчал. Мне было спокойно с Мишукой. Я искренне его полюбил.
Шурф били на правом берегу Кручины. Через несколько дней тёмный ход, вертикально врезающийся в землю, затягивал воронкой горячий застоявшийся воздух. Мишука лежал на животе, уткнувшись лицом в мешок. Я растолкал парня. С припухшими от дрёмы веками он опускал меня в глубину шурфа, с сопением перебирал в руках верёвку, пущенную через ствол старой сосны.
Воздух в шурфе был тяжёлым, сырым, давил на грудь. На лбу выступили крупные капли. Я стёр их рукавом и врезал кирку в землю.
Сверху по тонким рёбрам сруба, кое-как державшего сыпучие стены шурфа, сочился мелкий песок. На дне шурфа выступила тёмная, отливающая ржавчиной вода с густым илом. Я решил, что нужно рыть вглубь под подпорками. Перелопаченная и промытая вчерашняя земля была пуста, как бесплодная девка. «Неужели обманула Кручина», - ударило в голову. Раз за разом, врезая лопатку в ил, я упрямо глядел в темноту своего тесного обиталища, кривил от натуги лицо. Наконец показался песок, рыхлый, напитавшийся влагой. С очередным ударом лопатка врезалась во что-то «живое». Раздался звон. Я замер, облизал сухие губы, вынул лопатку из земли и, взяв чуть в сторону, копнул. Лопата, с хрустом входя в землю, вырвала кусок с крошевом камня. Я судорожно загрёб руками песок, выполз на брюхе из забоя и принялся разминать землю. Что-то слабо блеснуло в темноте. Я нащупал прохладный камень, выхватил его из песка и протянул руку к тусклому свету, несмело заливающему ход в шурф. Сердце ударило под лопатку. Я глядел на самородок, широко раскрыв рот, словно силился что-то сказать, но слова застряли в пересохшем горле.
По рукам пробегала мелкая дрожь, спину покрывал холодный пот. С края шурфа на голову посыпался песок, попал в глаза. Я отер лицо, сквозь пелену вновь всмотрелся в слабый блеск.
- Давай, - неожиданно раздался голос Мишуки. Я вздрогнул и запрокинул голову назад. Мишука нависал над ходом в шурф, загораживая бледный свет.
- Чего? - Я сжал в кулаке самородок.
- Вытащу. Больно долго нет. Завяз, думаю. - Пробубнил как в трубу Мишука. – Как бы не привалило.
- Тяни.
Я вынырнул из шурфа. В нос ударил сухой, пахнущий травами воздух. За то время, что я был под землёй, на поверхности разыгрался жаркий день. Мишука ушёл к костру, где бил ложкой о край котелка, сдувал назойливый гнус.
Я медленно разжал кулак, в котором покоился самородок величиной с крупную вишню, облепленный илом и землёй. Вынув из-под рубахи ладанку, положил в неё золото, прижал к груди и вновь запрятал за грубую от грязи и соли ткань. Пошагал к костру.
Весь короткий вечер Мишука замечал мою молчаливость, настороженность и лихорадочный блеск карего глаза. Своей отрешённости я не скрывал, и говорить не хотелось. Спать легли рано.
Всю короткую ночь я ненадолго проваливался в бездну, слышал отрывистые чужие голоса. Голоса шептали странные, непонятные слова, затихали. Словно спотыкаясь и начиная падать, я рвался вперёд, открывал глаза, вздрагивал. Очнувшись, шарил рукой по груди, искал под рубахой холщовую ладанку, от которой над сердцем растекалась тепло, а потом, скопившись в шар, тепло становилось огнём, начинало полыхать, жгло кожу, и мне казалось, что закрытыми глазами я вижу рыжее пятно, живое, недостижимое.
Сон оборвался, я раскрыл глаза и рванулся кверху, отнимая потную спину от земли. Столкнулся с широким лицом Мишуки, сразу не узнал блеска его глаз в предрассветной мутной белизне. Мишука навалился на меня, рядом молнией промелькнула быстрая полоса. Я крепко схватил твердую руку Мишуки и с силой ударил его ногами в живот. Глухой удар смешался с сопением и скрежетом зубов. Вцепившись друг в друга, мы катились по земле. Я перевалился на Мишуку, выбил из его руки нож, вскочил на ноги и кинулся к ночлегу, где лежало моё ружье.
- Стой, - прохрипел я и уткнул ствол в дымку тумана. - Не шути.
Мишука медленно поднялся с земли, глазами нашарил в траве нож.
- Стреляй, раз взял.
Я глядел на Мишуку, на его крепкую фигуру, напряжённую, как у зверя перед броском, смотрел он неотрывно и дико, как в бешенстве пёс.
- Не хочу, - я чуть опустил ружье, направляя ствол к ногам Мишуки.
- Нельзя здесь так. Не покоришь, - просипел Мишука.
- Зачем убить меня хотел? – я чуть вскинул ствол, словно бы подбросил на нём туман, и уставился на Мишуку.
Мишука молчал. Мне показалось, что он пожал плечами, и было в этом столько холодности и равнодушия к тому, что несколько минут назад он хотел вонзить в меня лезвие.
- Давно за тобой смотрят, - наконец проговорил он.
- Кто?
- От Прохорова я. Он давно смекнул, что старатель ты добрый в прошлом. Дока. Вот и приставил за тобой глядеть.
- Да-а, - задумчиво протянул я. - Вот тебе и молчун, - добавил на выдохе. Мишука ухмыльнулся.
- Душегуб.
- А сам? - уставил на меня глаза Мишука. - Все мы здесь одним миром мазаны. Кто за золотом идёт, уже в душегубы определился. Глаза-то застит.
- Ну, убил бы. А дальше? – пытал я Мишуку.
- Сам стану мыть. К чему мне Прохоров? Ищи меня в глуши этой теперь, - проворчал он.
- Ни к чему тебе, Мишука, золото. Килу только наживать. А проку мало.
Мишука шагнул вперёд. Я резко вскинул ружье и нажал на спусковой крючок. Сухой щелчок был глух. Перед лицом уже блеснул звериный глаз Мишуки, его оскал с ухмылкой, и вновь пронеслась молния.
Откинув разряженное ружьё, я кинулся бежать к сопке с чёрным сосняком. Слышал, как позади меня хрустит сминаемая под ногой Мишуки трава, как хлещут его широкое лицо упругие ветки. И только ладанка тяжело билась мне в грудь.
Как взмыленные кони мы бежали по взгорью, туда, где вершина сопки макушкой упирается в небо. Я оступился, покатился вниз по камню, крепко схватился за протянутые ко мне ветви сосняка, на последнем дыхании поднялся и услышал позади громкий топот Мишуки. Бег. Только бег. Обжигающий горло воздух и горячий шар в груди от накалившегося в холстине золота.
Подъём вывел на плоский выс-туп. Внизу, между двух боков сопок с обнажёнными скалистыми рёбрами, бежала Кручина. Я слышал звон её вод, видел бойкий перекат волны. Мишука настигал. Я с силой оттолкнулся от земли, и синь полетела навстречу, кипучая волна поглотила, скрывая теперь далёкие вершины сопок и звериный взгляд Мишуки. В пене и крупных пузырях мешалось небо и острия сосен.
Кручина ударилась о берег, с тихим шелестом выплеснулась на камень и оставила меня на сыром песке в извороте. В забытьи я был один, а Кручина устремилась прочь неприступной невестой.
Шёл я долго. Потерял нить времени. Лишь солнце подсказывало, что есть в этом мире восток и запад. Ноги мои опухли, сделались непослушными, к телу лип гнус, голова гудела от зноя, на макушке запеклась чёрная кровь – метку мне оставила Кручина.
Я жадно припадал губами к чужим ручьям, рыл руками твёрдую сухую землю, вынимал из неё, немилостивой, корень саранки, жевал. На зубах скрипел песок.
Река осталась далеко позади. Сопки, расступившись, выпустили меня на простор. Я упал и закрыл глаза. Вокруг раскачивали огневые головы лилии, слушали степной ветер мягкопузые тарбаганы. Я ничего не видел, лишь слышал чьи-то тихие голоса и чувствовал, как тело моё раскачивается, словно на волнах Кручины.
Вокруг был полумрак. Узкой полосой бил слабый свет. Я медленно переводил взор с незнакомых вещей, чувствовал запах молока, баранины и конского пота. Откуда-то сверху раздалось кряхтение. Я прислушался. Это был детский плач. Приподнялся. В голове разрасталась боль, перед глазами плыли цветные круги. Потеребив пальцами спутавшиеся волосы, я нащупал на макушке запекшуюся кровь. Боль усилилась. Свет полоснул по глазам, и вновь воцарился полумрак.
По земляному полу прошуршали быстрые шаги. Перед глазами возникло морщинистое лицо, на котором по сухой от ветра коже расползались тёмные пятна, узкие глаза смотрели с любопытством. Широкоскулый что-то быстро говорил, улыбался. В юрте запахло дымом и чем-то кислым. Вскоре передо мной снова возникли любопытные глаза, но теперь я сумел разглядеть и лицо: короткий чуть приплюснутый нос, выцветшие на солнце брови и тонкие губы, которые, растягиваясь в улыбке, обнажали ряд широких зубов.
- На, - человек протянул пиалу с чем-то мутным, покрытым золотистыми каплями.
Я вытянул губы, отпил жижу, опрокинув пиалу, повалился вперёд. От резкого бараньего запаха, смешанного с чем-то молочно кислым, к горлу подступала тошнота. Уронил на что-то жёсткое голову и закрыл глаза. Провалился в сон.
Когда я очнулся, на меня вновь смотрели любопытные узкие глаза, но теперь совсем иные, бойкие и весёлые. Встретившись с моим затуманенным взглядом, они растворились в полумраке. Вновь заплакал ребёнок.
Я сел, огляделся. Напротив стояла кровать, рядом с которой раскачивалась пустая люлька, низкий деревянный шкаф, на полу чернел потухший очаг с закопчённым чайником. У входа в юрту, держа на смуглых руках ребёнка, сидела девушка. Она внимательно смотрела на меня и улыбалась. На плечо падала чёрная коса. Одета она была в тёмный тэрлиг (летний халат), из-под которого торчали носки гутал (обувь). С пояса на пол опускались подвески из серебряных пластин.
Слабой рукой потерев грудь, я нащупал грубую ладанку, в которой лежал самородок. Сердце отозвалось сильным стуком.
Дни, как стремительная Кручина (которую я не мог забыть), рвались вперёд. За то короткое время, что было для меня, чужака, спасением в степи, я привык к чаю с бараньим салом, к едкому запаху пота и к жирному мясу. Я привык к старику Батлаю, который нашёл моё слабое тело, к его доброй жене Зандре, к их дочери Гаме. Даже к тому маленькому свёрточку, от которого тянулся писк, я привык.
Батлай кочевал по степям с табунами быстрых коней, гнал отары овец. Я не знал, сколько лет этому буряту с выцветшими глазами, с иссохшими на ветру руками и лицом, покрытым морщинами. Зандра, как и её муж, была неопределённого возраста, передвигалась быстро и плавно, только живая улыбка выдавала в ней ещё не старую женщину. Но Гама, их дочь, как лучший жеребёнок в табуне, была резвой и игривой. Ещё был крикливый ребёнок. То, что был он рождён от Батлая и Зандры, казалось мне глупостью, но здесь, в этих буйных цветом степях всё возможно.
Мне нравилось, как пахнет по утрам степь, как по земле отдаётся топот табуна, как перебирают длинными ногами стригунки, как громко смеётся Гама, что-то говоря на своём языке. Что значило это имя, я не знал, но верил, что-то очень хорошее и светлое, как сама девушка.
Иногда, сев на вытоптанную возле юрты траву, Гама долго и внимательно смотрела на меня, словно придумывала, что сказать чужеземцу, потом, ткнув себя пальцем в грудь, медленно вытягивала: «Га-ма». Я улыбался в ответ, повторял её имя, произносил своё. Она, тронув меня, вытягивала: «Андрей». Я чувствовал, как в грудь, от прикосновения Гамы, ударяет ладанка с золотом. Но рука девушки была нежна, растворяла тяжесть самородка. Гама учила меня делать игрушку для ребёнка из мелких косточек барана. Мои пальцы непослушно перебирали жёлтые, ещё липкие от съеденного мяса, суставы исчезнувшего животного. Гама, видя мою неумелость, сдерживала подступающий смех.
- Я хочу тебя взять в жёны, - однажды, сидя у юрты, сказал я с улыбкой Гаме.
Гама, словно бы поняв мои слова, замолчала, брови выпрямились в чёрную линию, лицо стало задумчивым. А потом звоном раздался ее смех. «Хухюу» (весёлая), - говорила она. Я повторял за ней, как мантру, это непонятное мне слово.
Я тронул пальцами ладанку и нерешительно снял её с шеи, вынул самородок и протянул Гаме. Она долго смотрела на золото, потом на меня. Глаза её стали строгими.
- Алтын, - прошептала она и легко оттолкнула мою руку.
Позади прогремел грубый голос старика. Гама, вскочив, стремительно кинулась в юрту. Я спрятал самородок в ладанку и остался один перебирать в пальцах костяшки мёртвого барана, думая о том, что скоро моё тело окрепнет и будет нужно покидать этот стан и Гаму.
Теперь я видел цветущую степь, чувствовал, как пахнет горькой полынью. Мне нравилось наблюдать, как с берега к юрте шла Гама, ещё угловатая, по-ребячьи неуклюжая. Но я чувствовал, как под просторным халатом плавно изгибаются линии её широких бёдер и талии, как наливаются спелостью груди. Её смуглые скулы отливали на солнце бронзой, к лицу и рукам прикасался горячий степной ветер, и мне казалось, что вместе с запахом полыни мешается запах её кожи. Весь цвет, звук и аромат теперь был заключён в этой девушке. Всё начинало жить лишь тогда, когда она была рядом.
- Андрей, - звонко прозвучал её голос, и растёкся смех. Гама, вынырнув из юрты, ткнула смуглым пальцем в мою грудь.
- Гама - хухюу-, - ответил я и поймал её маленькую ладонь.
Следом вышел старик, строго посмотрел на дочь и прошёл мимо меня, оставляя запах конского пота и шуршание суконного дэгэл (халат).
Я долго сидел возле юрты, смот-рел на тёмный табун коней, видел, как из далёких стойбищ поднимаются чёрные столбы дыма, до моего слуха доносились отрывки непонятных слов.
Рано утром Гама шла к ручью. Туман скрывал её силуэт. На степи храпели кони, били копытами.
Я вышел из юрты на воздух, поспешил на берег, где теперь была Гама.
Она зачерпнула в чайник воду, распрямилась и только теперь увидела меня. Улыбнулась. Я заметил, что сейчас её улыбка была совсем иной, чем прежде, - мягкой, неуверенной. Я подошёл к Гаме и взял её за руку, притянул к себе, её тёмные раскосые глаза с прямыми стрелками бровей были совсем рядом. Я видел её чуть приоткрытые обветренные губы, тонкую прядь тёмных волос, выбившуюся из косы. Пальцем провёл по острому уголку скулы и дотронулся губами до тонкой переносицы. Гама дрогнула и вырвалась из моих рук. Подняв с земли брошенный чайник, я зачерпнул воды и пошёл к юрте, лаская внутри разрастающуюся теплоту.
Больше Гаму я не называл «хухюу», не спрашивал, как на бурятском языке произносятся вещи и чувства. Гама смотрела на меня из-под чёрных ресниц, быстро отводила взгляд, если вдруг встречалась с моим, пристальным. Весёлый смех смолк. Старик Батлай о чём-то шептался с Зандрой, надолго уходил из юрты.
Рано утром раздался быстрый топот коней, резко заржал разгорячённый скакун. Я проснулся. Голова была тяжела, как после долгой ночи и крепкого вина. До хруста в костях потянулся. На полу, где я спал, лежала ладанка. Я тронул рукой грудь, где не было привычной тяжести, схватил ладанку, через грубую ткань нащупал пальцами самородок, задумался. Соскочил с твёрдой лежанки и кинулся из юрты. Под солнцем ходил табун, пахло горькой полынью, Батлай рубил чай. Всё было как и прежде.
К стойбищу по степи пылил конь. Всадник, осадив скакуна, спешился. Батлай о чём-то говорил с низким косолапым бурятом. Потом оба исчезли в полумраке юрты.
Громкий голос Гамы потускнел, и сама она стала задумчивой, чуть склонив набок голову, смотрела на пёструю даль. Она увядала, как сорванный в степи цветок. Но даже в этом увядании была прекрасна, что-то новое, ещё непонятное для меня, было в её замкнутости. Её худые плечи готовились покрыться безрукавкой, на которую вскоре упадут тугие чёрные косы. Батлай сменил строгий взгляд на ласковый прищур, которым одаривал вмиг повзрослевшую, сделавшуюся кроткой, дочь. Зандра, всплакнув, прикасалась морщинистой рукой к щеке Гамы, быстро утирала слезу, растерянно улыбалась.
Оставив душную юрту, я ушёл к ручью, сел на берег, вынул из ладанки самородок, подержал его в ладони, посмотрел на быструю волну и кинул золотник в воду, что быстро поглотила приношение.
Где-то плескалась Кручина. Она, как прежде, была весела. Я шёл от неё прочь. Она не для меня.
Виктория Сорокина,
с. Каминское.

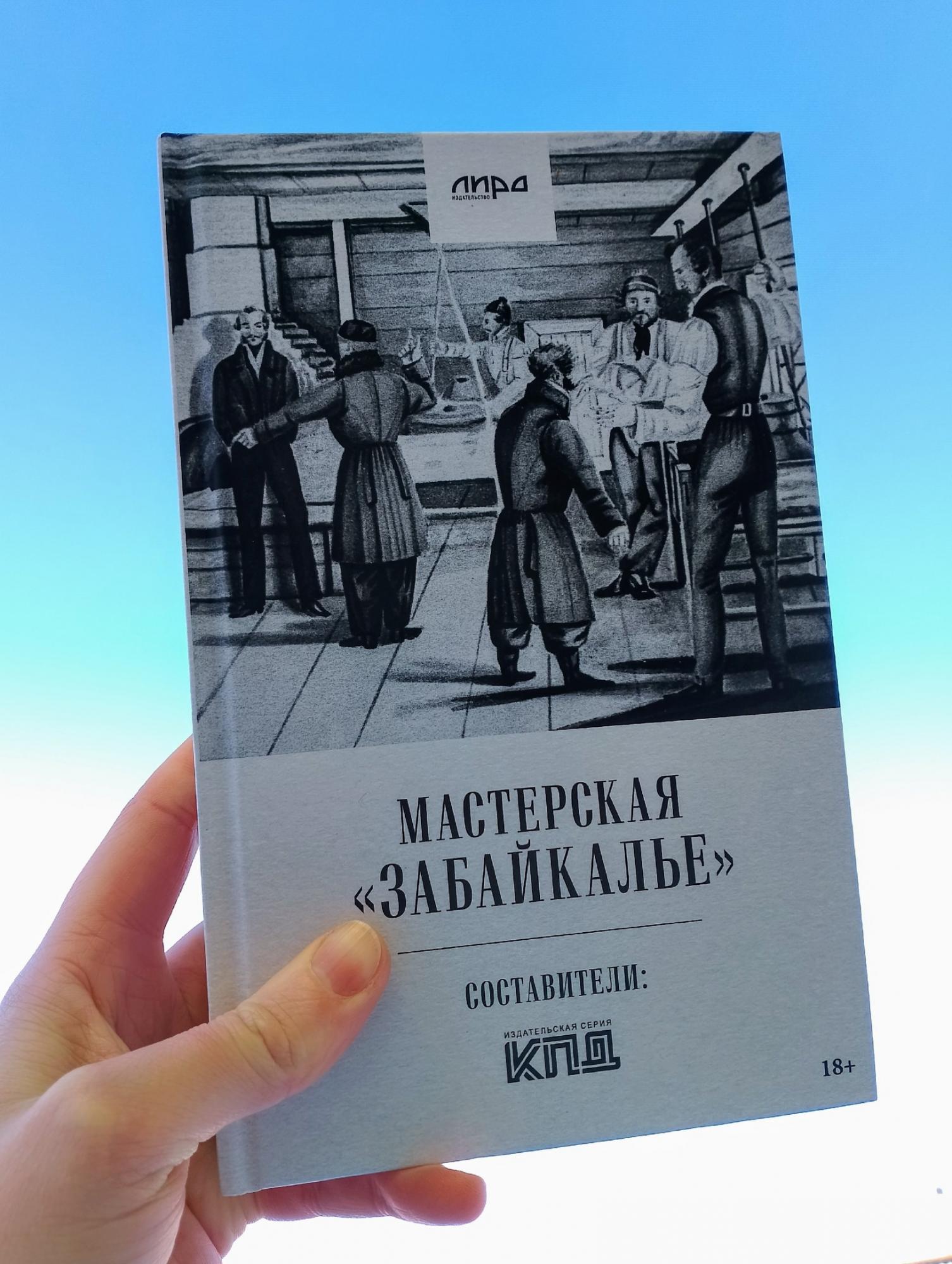







Комментарии